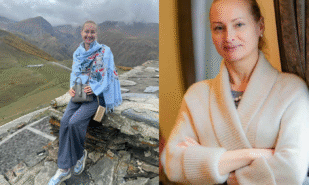Любимый детский поэт современных детей, писательница Маша Рупасова в представлении не нуждается. Кажется, нет русскоязычного ребенка, который бы не узнал строчку «Что ж ты делала, бабуля, в годы юности своей?». Сегодня Рупасова рассказала нам о мучительных поисках смысла в новом страшном мире. Разговор получился без иллюзий, но на диво духоподъемным.
Маша Рупасова: «Мы очень много тяжелых вещей узнали о мире»
Как у Вас обстоит дело с эмпатией? К себе, к окружающим, к миру.
Подруга моя, канадская израильтянка, рассказала, что выходит книжка профессора Gad Saad про самоубийственную эмпатию. Наверное, нам всем надо будет эту книжку прочитать. Поскольку ощущение, что ты отвечаешь вообще за всё происходящее, и это сочувствие нон-стоп 24/7 на протяжении нескольких лет делают нечто нехорошее с головой, с моей точно. Я сейчас в очередной раз пытаюсь меньше читать новостей – не чтобы не знать, просто не хочу делать новости содержанием всей моей жизни. Каждый раз, как дохожу до обращения к доктору, думаю: себя тоже как-то надо поберечь.
Это началось с ковида или с началом войны?
Думаю, с войны всё-таки. Во время ковида была надежда: скоро жизнь наладится. Но сейчас уже видно: нормальная не вернется. Мы очень много тяжелых вещей узнали о мире.
Мы можем предпринимать какие-то попытки этот мир склеить? Я не зря спрашиваю, знаю, что Ваши книги склеивают мир.
Я про это слышала, мне люди говорили. Год назад Настя Изюмская пригласила на конференцию «Человек в поисках смысла». Я, честно говоря, растерялась: сама пыталась найти какой-то смысл. Работать не могла, здоровье рассыпалось – пошла проситься в клинику. И единственное, смогла тогда почитать куски из книжки, которая только вышла, «Чудесные превращения Марьи Петровны Уткиной». После слушатели писали мне: они как будто побывали в старом мире, где все еще в порядке.
Не знаю, что мы можем сделать своими книгами, картинками, игрушками, этими слабыми руками… Хорошо, есть дети – ради них мы обязаны поддерживать жизнь. Хочешь не хочешь, а дома должна быть три раза в день еда, и нужно книги им почитать. Цепляясь за рутины, получается сохранять и себя. Я вижу, как люди – особенно женщины! – умудряются удерживать видимость жизни. А может быть, это и есть жизнь?
Женщины придумывают микропроекты, что-то вяжут, шьют. Моя хорошая знакомая в Германии придумала с украинскими беженцами проект, они шьют сумки из высококачественного бельгийского льна, полностью биоразлагаемого. Там очень сложная, интересная, дорогая концепция. Все рушится, а тоненькие ниточки между странами сплетаются, сумки летят в Штаты, Канаду, Европу. Женщины латают разруху, сажают что-то на руинах…
Вряд ли смогу полезное, толковое или вдохновляющее что-то сказать. Надо продолжать делать то, что можешь, и будь,
Но Вы можете подобрать слова и назвать это изменившееся в Вас…
Я много думала на эту тему последние три года. Раньше делала три-пять книжек в год,,
Какие-то мелкие радости бывают, но их едва хватает на обычную жизнь – на книги уже нет. И второе – рассыпался образ будущего. Я писала и видела будущее: ведь эти дети через 20 лет будут взрослыми, и была надежда, что они станут жить такую жизнь, которую мы для них хотели. С отсутствием границ между странами, с уважением друг к другу, с интересом к тому, что все разные.
Радостей нет, но ведь и горести мы стали воспринимать иначе? Сейчас изменилась шкала, правда?
Шкала изменилась настолько, что я первые пару лет за свою жизнь вообще никак не реагировала на окружающее. Но это нездорово. Вот думаю, не сделать ли мне закрытое сообщество для людей, которым стыдно жаловаться.
Меня часто упрекают, что я говорю из безопасной Канады. Но, несмотря на это, у меня тоже много утрат. Не могу в Россию приехать, не видела маму пять лет, а она стареет, побоялась лететь на похороны отчима в прошлом году, оставила близких без своей поддержки.
И с одной стороны, на это жаловаться публично не станешь – другим еще хуже, меня хотя бы не бомбят. Но в рамках частной маленькой жизни это, конечно, огромные утраты.
А еще рано или поздно количество доносов на меня перевалит критическую массу, и мои сочинения запретят в России. Я пока, к счастью, не иноагент – как только им стану, книжки с рынка уйдут. Ох, боюсь, будет непозитивное какое-то у нас интервью…
А позитивных не было много лет, так что мы в тренде.
Я последние три года живу в постоянном ужасе. Первый год только сидела и завывала. А люди приходят взять интервью с тайной надеждой, что детский писатель нашел какой-то выход. Слушала тут Катю Шульман на ютубе, она сказала, мы огромное количество информации получаем, но не можем повлиять никак на происходящее, люди с совестью чувствуют за все ответственность и так далее. И говорит: «А что с этим делать, не знаю!». И я вот думаю, да,
Много ли было у Вас личных разочарований, расставаний с началом войны?
Как ни странно, нет. Наверное, если кто-то случайный и был, то отвалился в районе Крыма. Я потеряла часть читателей, и вот это очень меня расстроило. Ну и я, видимо, очень разочаровала некоторых – однозначно поддержала Украину, давала интервью, где говорила о том, что Россия неправа. С десяток читателей потрудились написать мне о разочаровании, прислали фотографии моих выброшенных в помойку книжек. Больно было. Я думала: господи, ребят, ну вы же меня знаете как человека, который заботился о нашем общем будущем. Вы же видели, что я не фашист, не убийца.
А в конце первого года пошли доносы. Жалоба, скажем, в администрацию книжного магазина, в которой указывалось, что Рупасова поддерживает фашизм, ЛГБТ, сhild free, ходит с флагом, хотя это довольно редкая история для меня, чтобы я с флагами ходила. Короче, доносы – не то,
Как можно справиться с этим? Что Вам помогало такое пережить?
Да ничего не помогало. Я так в этом и варилась – из головы выкинуть невозможно, когда своими глазами видишь донос. Причем,
Вы задумывались над параллелями между эмиграцией предреволюционной, послереволюционной и нашим временем?
Да, пожалуй, есть что-то общее. Проигравшие вынуждены покинуть свою страну. Думаю, мы – волна проигравших, к сожалению. Нам некуда будет возвращаться: похоже, в России все продлится еще лет двадцать. А дети наши потом уже никуда не поедут, у них дом будет в другом месте.
Вы отгоревали невозможность поехать в Россию сейчас?
Ой, нет. Это горевание, я думаю, стало уже частью моей личности, несущей конструкцией. У меня очень хорошая память. Помню в деталях все места, которые очень дороги, и я периодически по ним «путешествую». Может быть, из-за частого повторения боль становится меньше. Я больше горюю по тому, что не случилось. По утраченному будущему, по тому, какой Россия могла бы стать, по детям, на которых сейчас обрушивается пропаганда. Вот это вызывает очень много горьких чувств. Выясняется, нам повезло – мы застали перестройку, надежды, у нас было начало 2000-х. Мы достаточно наивно думали: все двигается в правильном,
Получается, мы всю сознательную жизнь прожили в надеждах, которые не оправдались?
Да. Кстати, думаю, мне теперь понятны чувства поколения моих родителей. Они тоже жили с надеждами, у них была налаженная жизнь, а потом это все накрылось «медным тазом», рухнул Союз, началась перестройка, действительность стала «переходить на рыночные рельсы». Наверное, когда начали ругать Союз, наши родители это воспринимали как обесценивание не только страны, но и своей собственной жизни. И сейчас они поддерживают эту тему с величием ровно потому, что им очень важно опять гордиться, вернуть ценность и себе, и стране. Видимо, в их сознании они сами и Советский Союз сливаются в одно. Понятен теперь механизм.
Механизм ресентимента, по сути.
Который мы пронаблюдали и прожили сейчас на собственной шкуре. Потому что напрасно последние двадцать лет писали, создавали проекты. Все вхолостую, получается.
Довольно жутко, но ведь каждое поколение огребало такую историю. Хочешь,
Вот тоже думаю, это какая-то аномальная зона. Может, у нас там проходит разлом тектонический? Я атеист, поэтому для меня вообще нет объяснений. Ну, видимо, психологические только.
А Вы всегда были атеистом?
Пожалуй, всегда. Меня бабушка в детстве пыталась воцерковить, она была адвентистом седьмого дня. Но ей не особенно удалось. Интеллектуально я понимаю концепцию веры, но эмоционально для меня там пусто.
Можно, я сейчас задам вопрос, который не имеет никакого отношения к тому, что происходит в мире, но прямое – к Вам. Как случается процесс написания текста? Вы его вытанцовываете, выхаживаете или садитесь за стол и пишете?
Вера Полозкова хорошо описала этот механизм,
Я вчера мужу жаловалась, что никак не могу поймать эмоциональный отпечаток для нового сочинения. Три раза начинала, и всё время не то. В прошлый раз нужное ощущение возникло абсолютно внезапно. Села утром выпить кофе на балконе, и вдруг… Я написала за месяц всю книгу целиком. Она уже вышла, но под псевдонимом (не хочу пока в эти самые иноагенты). Но да, ощущение всегда тащит за собой либо прозаический текст, либо стихотворный. Появляется сильная эмоция, накручивается, накручивается, и ты вытаскиваешь либо стишок, либо книжечку. Страшно скучаю по этому ощущению, мне оно необходимо. Я же под контрактами, и деньги уже даже заплатили кое-где. А во мне тишина: что хочешь, то и делай.
А выманить никак нельзя это ощущение?
Я пыталась. Может быть, сахара не есть,,
Вы тоже, наверное, знаете эту пустоту каменную, бетонную, когда внутрь себя заглядываешь и спрашиваешь: «Ну,,
А с художниками, которые иллюстрируют книгу, тоже должно ощущение совпасть?
Я сейчас довольно быстро теряю интерес к написанному тексту, он начинает жить своей жизнью. С первыми книжками мне хотелось их опекать,,
Если мы заговорили о детях. Сын Ваш растет, приходится выпускать постепенно вожжи? Это болезненные ощущения?
Периодически думаю, какое счастье, я уже готова к опустевшему гнезду, считаю, сколько осталось времени до его отъезда в колледж. А потом он начинает выбрасывать остатки игрушек, и мне становится печально: вижу, как эта часть нашей совместной жизни заканчивается. Мой маленький мальчик останется только в памяти, его младенчество и детство сейчас дороги только мне и мужу, его папе. Когда ему понадобится эта часть жизни, пройдет лет тридцать. Но еще смотрю, как он проявил признаки здравого смысла, и опять радуюсь: наконец-то с моей головы часть ответственности свалится. То радуюсь, то грущу. Видимо, так и должно быть.