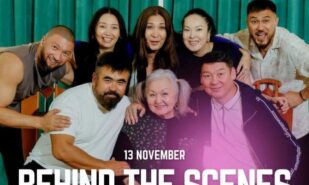В лондонском кинотеатре «Genesis» в воскресенье завершился The London Independent Film Festival, собравший под свое крыло почти сто кинематографистов со всего мира. В рамках LIFF проходят встречи, учебные программы и, конечно, премьеры. Гран-при фестиваля-2025 взял «Signs Of Life».
Пепел пожара: фильм «Signs Of Life» взял премию на LIFF
Речь о режиссерском и сценарном дебюте актера Джозефа Миллсона в полнометражном кино. Интересно, что богатый театральный опыт Миллсона тут оказался очень важен: взяв из театра лучшее, включая тщательную работу с ролью, он привнес это на съемки собственной картины. История о знакомстве женщины и мужчины в обыденных и странных обстоятельствах, «Signs Of Life» — конечно, романтическая драма, но не только. Давайте по порядку.
«Signs Of Life» действительно малобюджетное кино — на Q and A после премьерного показа в «Genesis» режиссер рассказывал, как съемочная группа складывалась из друзей и близких, как экономили каждый фунт. Но фильм Миллсона — тот самый случай, когда большие деньги не прибавили бы ничего. Лента очень красивая, внимательная к мелочам, попадающим в кадр (а как известно, что на сцене, что в кадре, любая деталь обретает смысловую нагрузку) и очень строгая. Здесь нет никаких заведомо бьющих зрителя «под дых» кадров вроде драк, аварий и прочих штук, шокирующих на физиологическом, рептильном уровне. При этом картина полностью завладевает вниманием. Планы тут долгие, камера внимательно и безжалостно смотрит на актерские лица, играющие буквально движениями ресниц. В такой пристальной съемке не спрячешься ни за динамикой, ни за неожиданными поворотами сюжета.
Интересно, что фильм практически лишен активных, яростных поворотов, построен на внутренней жизни героев, которая тлеет внутри (точь-в-точь как оказавшийся в кадре вулкан) и редко прорывается в мир полыхнувшим паром. Реплики почти чеховские, будто случайно оброненные: люди едят, пьют колу, носят пиджаки, а в это время рушатся их судьбы. Впрочем, и разрушение судеб тоже происходит за кадром: камера включается с половины такта, с обыденного бытового момента в аэропорту. Быта много – и пыльный гравий под кедами, и разбитая бутылка на обочине безымянной дороги или дурацкое отвалившееся колесо чемодана. Тем удивительнее наблюдать, как эта обыденность становится в рамках кадра поэзией. Поэтизированию быта помогает и саундтрек (музыка композитора Anne Dudley).
С уверенностью, опираясь на слова режиссера на встрече со зрителями, можно сказать, что роли построены жестко, вплоть до поворота головы. Главная героиня Анна (ее играет Sarah-Jane Potts) буквально лишена речи – то ли никогда не говорила, то ли потеряла возможность говорить вследствие несчастья. Оттого и ее актерская, и наша зрительская задачи еще сложнее. Мы прочитываем мысль, речь, чувства Анны, ловя их в глазах и мимике героини. Через такое психологическое упражнение зритель невольно отождествляется с персонажем почти мгновенно.
О героях мы не знаем ничего, кроме имен, минимума деталей, и за полтора часа фильма сами наделяем их прошлым, мысленно создавая истории, близких, трагедии. Билл — второй главный герой картины — совершенно чеховский персонаж (и David Galby, кстати, играл в «Вишневом саде» у Benedict Andrews в Donmar Warehouse Симеонова-Пищика, одного из самых сложных и противоречивых образов у Чехова). Этот Билл будто взрослый Пьеро, наскоро успевший стереть с лица белила, но забывший выйти из образа неуклюжего романтического недотепы: он бегает по утрам, но когда действительно необходимо бежать, стоит на месте.
Напомним, у фильма Миллсона есть однофамилец — трагикомическая картина Вернера Херцога с тем же названием, по мотивам новеллы Ахима фон Арнима «Одержимый инвалид в форте Ратоно». Это не столько перекличка, сколько мета-сюжет – тут античные море да горе, которые, как уксус и масло, не перемешиваются никогда. А еще истории роднит внимание к окружающему миру и своеобразная отчаянная романтика: у Херцога настоящий пожар, а тут Билла изнутри жжет измена.
И еще одна ассоциация: у Уильяма Гибсона есть биографическая пьеса «Сотворившая чудо», основанная на событиях жизни Хелен Келлер, слепоглухонемой девочки, впоследствии выросшей в филантропа и правозащитницу. У Гибсона Анна Салливан, педагог и воспитатель, находит подход к обезумевшей от отчаяния девочке. У Миллсона неговорящая Анна (случайно ли она тезка Салливан?) ищет подходы к себе, к миру, и сотворение чуда – ее основная задача. Отчаяние, неприкаянность, безденежье, горевание, крайность несчастья толкают Анну к действию, но вся эта титаническая работа, напомним, происходит внутри. По сути, немота — троп, символ, превращающий всю историю не в бытовую драму, а в притчу.
Этот «Signs of Life» и есть притча от первого до последнего кадра. Урна с прахом, которую все носит и носит в рюкзачке Анна, не в силах расстаться с ее содержимым, конечно, настоящая трагедия, произошедшая в жизни конкретной женщины с этими короткой стрижкой, задорно вздернутым носом и скорбно, нежно сложенными губами, с гибкой шеей, закаменевшей в горе. Но та же урна — символ, отправная точка притчи, образ потери, обрушившей жизнь. Вы вольны насыпать в подобный сосуд любой пепел, оставшийся от разрушенной судьбы.
Не кино, а сеанс психоанализа, ей-богу! У вас лично, кстати, что: развод, смерть, война, потеря дома, языка? Фильм об этом. О, рассказать, что такое немота для эмигранта, у которого родной язык всегда был основным средством не просто работы, но инструментом ощущения мира? Впрочем, нет — об этом, кажется, написаны тонны страниц. А вот притча всегда оказывается сильнее и точнее тысяч слов.
Смешные жизненные неловкости наполняют картину. Неуклюжие детали вроде задравшейся футболки на совершенно обычном мужском животе, неудачной подачи пинг-понгового мячика или стекла, вонзившегося в незащищенную пяту омерзительного гоблиноподобного типа — все они рождают совершенно живой отклик в зрителе. Не наивный (это неточное слово), а дивно обезоруживающе искренний.
Еще стоит сказать пару слов о сценарной работе. Смена настроения в картине выстроена внимательно и математически точно, как по синусоиде: смешок, тянущий за собой всхлип. И вот финал, который пересказывать — только портить: бытовой, при этом поэтизированный, романтизированный. Искреннее поэтическое кино, сотворенное чудо как есть, настоящий знак жизни. В уже упоминавшейся тут новелле фон Арнима герой говорит героине: «Ты пахнешь пожаром Трои!»… Та самая урна с пеплом и есть пепел страшного пожара. В течение фильма она утрачивает свое грозное и трагическое значение, а к финалу – свет и тепло дома.