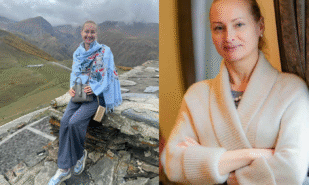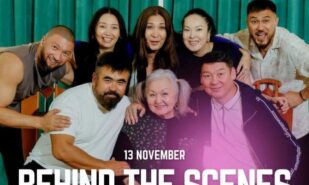Дима Зицер: «Мы заслужили быть уязвимыми»
Дима Зицер — режиссер, педагог, основатель института неформального воспитания INO и частной школы «Апельсин» — поставил спектакль «Фрау. Репетиция». Это пьеса журналиста и драматурга Артура Соломонова, а играет обе роли Ольга Романова. И вот в Лондон спектакль привозят британский продюсер Маша МакМинн и её компания UK Integration. Показ уникального действа — беспощадной, честной документальной драмы — пройдет 4 мая в Marylebone Theatre. Мы поговорили с Димой о спектакле, о детях и о смелости.
Как можно отличить взрослого человека от ребенка? Не по морщинам же, в конце концов?
Никак нельзя, если мы не будем брать с вами техническую сторону: взрослые люди больше по размеру и чаще всего ближе к смерти.
В таком случае режиссура и педагогика – похожие области?
Конечно. Я отвечаю так не только потому, что в моем случае они всю жизнь идут рука об руку. Просто и то, и другое – взаимодействие с людьми. И первое, и второе – это про внутренние связи, анализ этих связей, иначе говоря, о рефлексии. А еще о сомнениях, поиске истины. Инструменты, может быть, разные, но, мне кажется, это профессии из одного поля, да.
Когда Вы ставите спектакли с подростками и когда работаете с Ольгой Романовой над спектаклем «Фрау», используете одни и те же инструменты?
Я бы уточнил: работаю не только с подростками, а с молодыми людьми разного возраста. Конечно, если мы говорим о театральных и о педагогических инструментах, безусловно, да. И когда с детьми ставлю спектакли, это, в общем-то, то же самое. Они очень хорошо знают, что никакой скидки в профессиональном смысле не будет.
Знаете, я детям иногда даже говорил: «Понятно, что мы счастливы, когда приходят ваши родители на спектакль. Но мы рассчитываем не на них, потому что родители в любом случае будут фоткать, радоваться и млеть». И в нашем случае мы действительно играли спектакли на сценах профессиональных театров.
Конечно, есть какие-то вещи, от которых в силу их возраста я стараюсь уберечь детей. Например, в спектакле Ольги Романовой может быть обсценная лексика – с детьми это недопустимо. Во взрослых спектаклях могут быть и откровенные сцены, понятно, что в детских спектаклях никогда такого не будет. Но, пожалуй, это всё. Остальное можно сделать выразительными средствами. Я хотел было сказать, что взрослые спектакли бывают жёстче, чем детские, но нет. Если мы говорим об образах, о влиянии спектакля на зрителя – нет!
Можно ли сказать, что зритель «Фрау» — студент, который воспринимает текст, звучащий со сцены? Или это всё-таки разговор на равных?
Слушайте, понимаете, в чём штука! Если мы говорим о «Фрау», я даже не знаю, подходит ли тут слово «спектакль». Технически оно правильное, но тут ведь есть очень важная вещь: Оля не актриса, что очень правильно и очень хорошо для спектакля.
Когда Артур Соломонов мне предложил эту работу, я – каюсь! – сомневался и сказал ему: «А чего мы не возьмём профессиональную актрису, причём классную, известную?» Он ответил: «Давай попробуем с Ольгой, а дальше посмотрим». А дальше я попробовал и… Не захотел никакой другой актрисы. «Фрау» – такой, в общем, документальный театр: сиюминутную рефлексию отрепетировать невозможно.
И тогда остался один путь, когда настоящее, непридуманное, нетеатральное рассуждение рождается прямо сейчас. В этом смысле зрители – участники рассуждения. Они не наблюдатели, потому что большая часть из них оказывается захвачена теми же вопросами, рефлексиями.
Уже прошло несколько показов. А значит, много обратной связи есть, и понятно, что с ними происходит, со зрителями. И я уверен, если бы спектакль был устроен так, что зрители могли высказаться, думаю, они бы это сделали непременно. От многих слышал: им не хватило такой возможности.
Это был мой следующий вопрос: случались ли какие-то реплики из зала, как часто бывает на док-спектаклях?
Нет. Я очень-очень стараюсь пройти по грани и не дать зрителю такой возможности. У них рождается огромное количество всяких-разных эмоций, иногда слез и так далее. Но ничего не поделать! Довольно важно, чтобы зрители варились во внутреннем котле. Иначе спектакль перейдет в дискуссию.
Вы читали интервью Артура Соломонова с Дорой Наас до того, как начали репетировать?
Оно произвело на меня сильное впечатление, когда только вышло в 2013 году. Мы ещё с Артуром не были знакомы, между прочим. А потом я его перечитал после масштабного вторжения в Украину, и оно не произвело на меня того же действия. Напротив. Не то, чтобы стало неактуальным, просто нынешняя актуальность вытеснила прошлую. И в реакции зрителей я слышу то же самое.
Есть ли параллели между интервью, легшим в основу спектакля, и остальным текстом Ольги Романовой, звучащим со сцены?
Нет, не совсем. Можно сказать, что воспоминания Доры дают толчок к рефлексии Ольги. Вот это будет точнее. Мы не каждый раз знаем, какой текст возникнет, честно.
То есть это всегда в какой-то степени импровизация?
Мы понимаем, как устроена канва, но там много условной импровизации. Почему условной? Если бы на сцене была профессиональная актриса, мы бы сказали, что она импровизирует. А в случае Ольги Романовой говорим: она ищет, не переставая.
Спектакль идет на русском языке без субтитров?
Ну, пока да, дальше видно будет. Правда, планов перевода у нас нет: для этого нужен переводчик-синхронист высшего класса, а это довольно дорого.
Обсуждали ли Вы с Ольгой, каково это – выносить к зрителю тяжесть личного опыта? Вы говорили о беззащитности человека, который выходит на сцену, чтобы рассказать о себе без жалости? Или именно эта беззащитность и рождает неуязвимость?
Видите ли, текст действительно Ольгин, поэтому она говорит ровно то, что считает нужным сказать. Это важный момент. У нас бывают жесткие минуты, когда я с ней вступаю в перепалку, проверяя, насколько глубоко она еще может копнуть – естественно, не разрушая себя.
Скажу правду, я очень не люблю застольный период, вот этот, знаете, по Станиславскому: сидим и анализируем текст. У меня, наоборот, 90% случаев, когда я говорю: «Вперед, на сцену! Играем, сейчас найдем, что играем!». А в случае с «Фрау» мы очень много разговаривали – и продолжаем разговаривать до сих пор. Нужно было понять, где можно нащупать вот тот действительно оголенный нерв – именно это очень важно, в этом ценность. Ну, расскажем мы про Дору, ну Дора-Дора-Помидора, да сколько таких Дор было!..
Так что я думаю, дело в нашей уязвимости. Как раз самое интересное тут и рождается. Мне кажется, Оля порой говорит неожиданные вещи для самой себя, а для меня уж точно. Иногда в своих рассуждениях она натыкается на тему, которой в спектакле не было. В общем, мне хочется, чтобы мы были уязвимыми все. Мы заслужили быть уязвимыми.
Заслужили…
Началась война – и заслужили, да. Заслужили своим коллаборационизмом, заслужили все сто процентов людей, говорящих по-русски, исключая Украину. И в этом смысле наша история об ответственности и вине, о вине и ответственности… Да, мы ответственны за свою жизнь во всех областях, в том числе очень неприятных и гадких. И мы ответственны все за темные углы, в которые не хочется заглядывать, но они есть у каждого из нас, так или иначе. Очень хочется этот угол занавесить, чтобы он таким оставался.
То есть, по сути, «Фрау» — это опыт заглядывания за эту занавеску?
По сути, да. И в этом смысле зрителя, конечно, мы должны щадить. Они не виноваты, что на спектакль пришли. Наоборот – мы рады. И в определенном смысле Оля все делает за них и для них — заглядывает за свою занавеску. Принципиально важно, что мы говорим только о себе. А если возникают у зрителя какие-то ассоциации — хорошо.
В этом контексте, что Вам помогает не сваливаться в отчаяние и безнадежность?
Во-первых, поверьте: за прошедшие более чем три года я неоднократно был в состоянии отчаяния и безнадежности. Во-вторых – пусть это пафосно прозвучит – но мне помогает понимание своей нужности. Это вторая, но вообще-то большая часть моей деятельности. Это очень-очень конкретная помощь конкретным людям в Украине, не только в Украине. Конкретным детям, конкретным взрослым, конкретным педагогам. Ну, в общем, вот это, наверное.
Ваш подкаст называется «Любить нельзя воспитывать». Куда ставить запятую в свете всего пережитого за три года? Бывает ли такое: боли столько, что любовь уже не лезет никуда?
Те, кому любовь некуда складывать, какой бы совет я не дал, не смогут им воспользоваться. Могу только посочувствовать. Но вообще-то мне кажется, в такое состояние человека может вогнать бездействие и вопрос «Ну, а я, что могу сделать?». Вопрос, который был так важен все эти годы российским властям, например. Шаг за шагом они приучали людей к этому вопросу.
«А что я могу сделать? Мы никогда не узнаем правды! Есть те, кто понимают лучше, чем я! А я политикой не интересуюсь! А я в этом ничего не понимаю!»… Можешь – не можешь, но оглянись вокруг и помоги тому, кому нужна твоя помощь, сделай конкретный шаг. Вообще неправда, что мы в прямом смысле слова ничего не можем сделать. Извините меня, это отмазка. Поэтому попытки ответа на вопрос «что такое любовь?» можно пока отложить. У нас есть возможность действия, у каждого из нас, и это очень круто. И есть люди, которым эта помощь критически важна. Вот и все.
В интервью Дора говорит: «Очень трудно молодому человеку сопротивляться общему потоку». Значит ли это, что, когда закончилась Вторая мировая и девушка стала понимать, ей все объяснили, она опять пошла в направлении общего потока?
Конечно, абсолютно. Это тот случай, когда я могу сказать только «да». Мы очень много с Олей анализировали случай Доры: и текст интервью, и смотрели дополнительные материалы. И нет ни одного доказательства, что она стала мыслить иначе, ни одного, кроме ее слов. Я совершенно не хочу ее коленкой припереть к земле, но вы абсолютно правы. Да, мейнстрим – это страшная штука. И да, она оказалась в другом обществе, может быть, действительно смотрела на все иначе. Но многочисленные социологические опросы, которые проводились в Германии в конце 70-х, говорят, что подобные доры тогда смотрели на все так же, как и тридцать пять лет назад.
А что должно быть у человека внутри, чтобы он хотя бы заметил, как себя ведет? Я уж не говорю, начал сопротивляться?
Ну критическое мышление у него должно быть, привычка сомневаться, не делать какие-то вещи на автомате. Привычка задавать вопросы и рефлексировать.
А что такое смелый человек?
У Достоевского в «Идиоте» Аглая с князем Мышкиным сидят на лавочке и рассуждают как раз о смелости и о трусости. Она спрашивает, знакомо ли князю чувство страха, и он отвечает утвердительно. Она говорит: «Стало быть, вы трус?». А он отвечает: может и не трус, потому что человек, который боится и не убегает, еще не трус, а трус – тот, кто боится и убегает.
Не то, что я кровью подпишусь под этим, просто всплыло в памяти сейчас. Наверное, смелость – это минимальная верность себе с последующим действием. Но я далек от того, чтобы требовать от людей поступков, честное слово. В какой-то момент я сформулировал для себя, что сейчас время общей проверки, но предпочел бы, чтобы меня не проверяли.
Да, я предпочел бы не подвергаться проверке, даже при том, что стараюсь проходить ее по-честному. И не хотел бы, чтобы ваши читатели поняли меня следующем образом: кто, так сказать, сопротивляется – смелый, а кто ищет другие честные способы взаимодействия с действительностью – несмелый. Понимаете, не думаю, что каждый человек должен быть смелым. Это вообще не так! Люди имеют право быть разными.
А студентов в школе Вы учите рефлексировать? Обсуждаете с ними эти вопросы?
Не-не-не, мне кажется, нельзя так ставить вопрос. Хватать человека за пуговицу и говорить: «А сейчас мы с тобой будем говорить на очень важную тему!». Это неблизкий мне путь в педагогике, равно как и утверждать, что кто-то должен быть смелым, умелым, стойким, вот это вот все… Но рефлексия рождается от рефлексии, от того, задаем ли мы вопросы, ищем ли ответы. Надо задавать любые вопросы, которые людей интересуют и интересуют меня. Это принцип номер один.
У Вас открывается новая школа ОМА. Есть ли разница между детьми, с которыми Вы работали до войны, и нынешними? Изменилось ли в них что-нибудь?
Если очень-очень общим мазком, то, в общем, нет. Да, система координат меняется, но она все время меняется. И да, иногда становится трагической. Но если мы говорим о детях из Украины, я бы сказал принципиально – да, изменилось. Потому что у ста процентов украинских детей произошла настоящая травма, в прямом смысле слова. В книге «Любовь в условиях турбулентности» у меня отдельная глава есть об этом. Не реверанс в сторону Украины, а реальность – у всех украинских детей резко изменилась судьба. По-настоящему резко, в одну секунду. И не важно, находятся они в Украине или уехали в другую страну – их жизнь полностью изменилась. И вот уже они устроены совершенно иначе. Конечно, они сегодня другие, увы.
Я ни в коем случае не сравниваю, но замечаете ли Вы некую травму у детей, которых увезли после начала войны из России?
Нет, нет, это другие вещи. Тут важно договориться о терминах. Слово «травма» – очень важное. Еще раз, травма – это мгновенное, резкое изменение полностью всей структуры судьбы и детства. Есть ли в разных других детских группах в мире, включая детей из России, травмированные? Ну, конечно, есть. Но применять к ним нужно именно эту профессиональную линейку. Родители детей, которые уехали из России, особенно если они бережные, все-таки была возможность принять решение, подумать, запланировать, где-то подстелить соломки.
Ни в коем случае не хотел бы сейчас создать впечатление, что украинских детей надо жалеть, а российских – нет. Но это действительно разные вещи – вы спросили про группу детей. И еще раз – сто процентов украинских детей с травмой. Могу дать совет моим коллегам, если он им нужен: мы должны помнить, обязаны помнить, что здесь травмированные. А что касается детей, которые уехали из России, думаю, в их случае много чего может быть, и травма тоже. Может быть, культурный шок переезда или какие-то вопросы, на которые им трудно ответить. Но это вообще не то же самое, честно.
А тексты, которые Вы в школе читаете с детьми, изменились? С математикой более-менее понятно, она не может измениться. А вот литература…
Я давно уже не читал тексты с детьми. Но если говорить гипотетически… Классика важна всегда. И я имею в виду сейчас не только произведения XIX века, но все тексты, с которыми мы взаимодействуем, находим с ними себя. В том числе то, что написано, скажем, год назад.
Сегодня появляется огромное количество важнейших текстов, с которыми, конечно, надо взаимодействовать. Нет никакого смысла фиксироваться на программе, которая была даже двадцать лет назад, тем более пятьдесят. Глубочайшие вещи существуют в рэпе, например. Или – да, это не для детей литература, я бы не стал с детьми это разбирать – но роман Сорокина «Наследие», вот пример современного текста, если мы говорим о русскоязычной литературе.
Но повторюсь, в известной мере это гипотетический разговор. Школа начинает работать осенью, так что, если вы спросите меня через годик, я отвечу более подробно. На новом витке у меня появится другой опыт взаимодействия с детьми, в том числе литературный и театральный. Посмотрим, что будет для них актуально, что для меня.