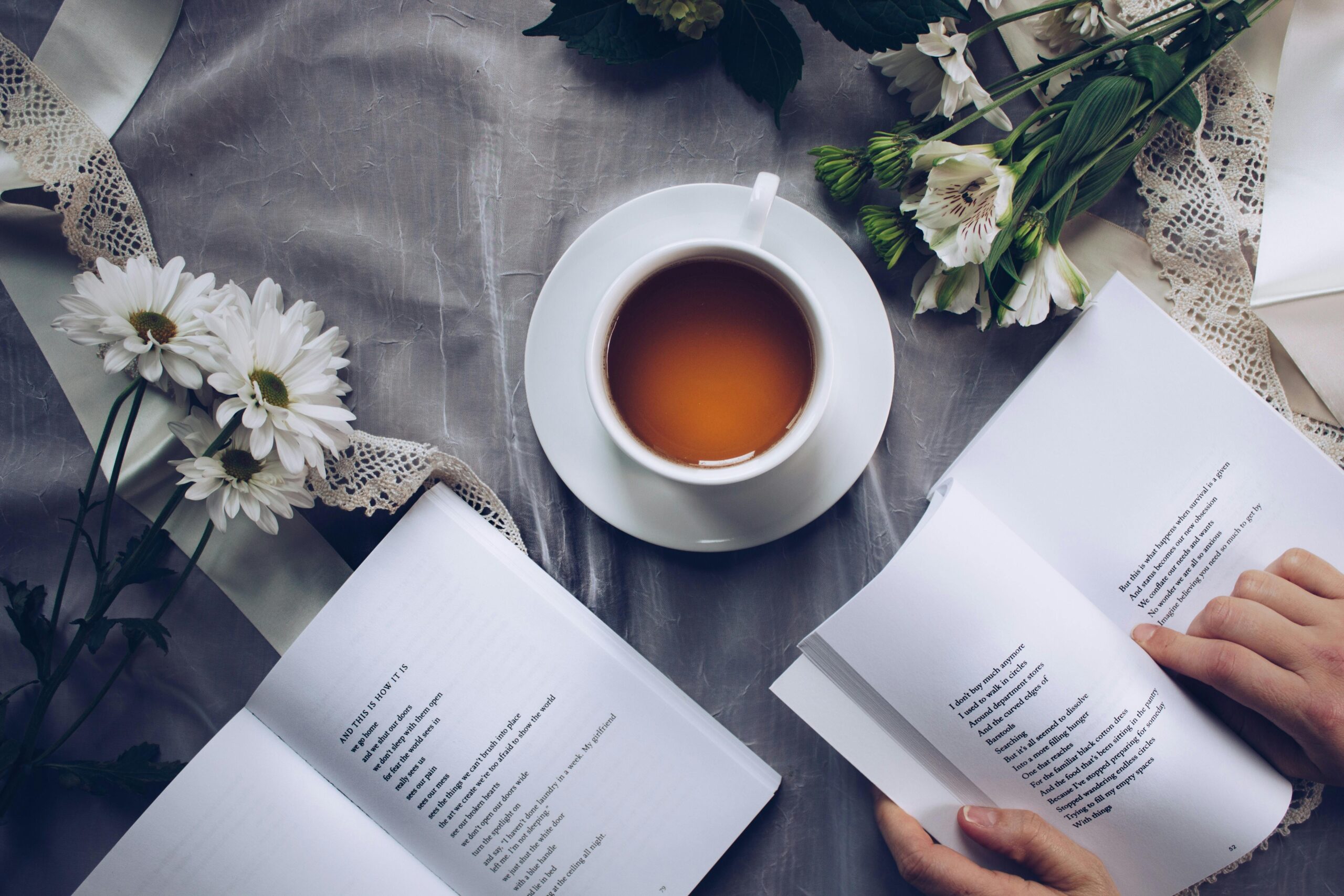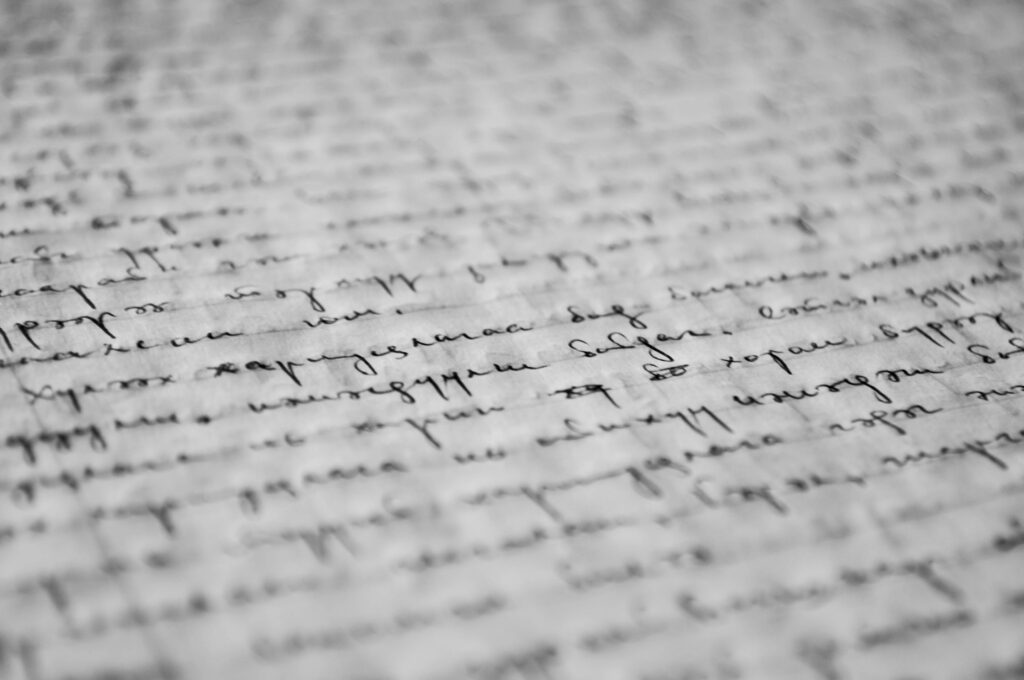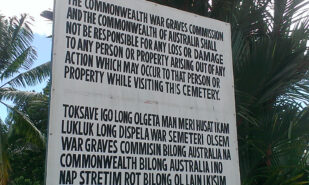Рифма как ключ к прошлому: поэзия помогает восстанавливать древнее звучание языка
Изучение истории английского языка сталкивается с одной большой проблемой: в Средние века не существовало аудиозаписей. Мы можем читать тексты Чосера или Шекспира, но не услышим, как они звучали. Одним из инструментов реконструкции древнего произношения служит рифма. Она позволяет определить, какие слова действительно совпадали по звучанию в ту или иную эпоху, даже если современному читателю это кажется невероятным.
Рифма у Чосера: melodye и ye
В «Кентерберийских рассказах» Чосера встречаем такие строки:
And smale fowles maken melodye,
That slepen al the nyght with open ye.
Сегодня слова melody и eye совершенно не рифмуются. Однако в XIV веке их звучание было иным. Слово melody пришло из французского и имело ударение на последнем слоге: melodye /mɛlodi:(ə)/. Слово eye, записанное как ye, произносилось как /i:ə/. В результате рифма была полной.
Два века спустя рифма продолжает быть ценным свидетельством. В «Сонетах» Шекспира встречается сопоставление memory и die:
Sonnet 1
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory
С позиции современного английского эти слова несовместимы. Но известно, что такие формы, как memory, archery, alchemy, произносились с конечным дифтонгом /-əɪ/ или /-i:/, унаследованным из французского. Следовательно, в эпоху Шекспира memory звучало как /ˈmɛ.mə.rəɪ/, что делало рифму с die естественной.
Список «невозможных» рифм
Тексты XVI–XVII веков изобилуют примерами, которые открывают для исследователя древние фонетические реалии. Вот лишь некоторые из них:
- anon = alone
- appear = bear
- brood = blood
- dear = there
- love = move
- tomb = come
Сегодня подобные рифмы кажутся нарушением поэтической гармонии, но в языке XVI века они были закономерны.
Среднеанглийские баллады: have и save
В старинной песне Bird on a briar встречаем строки:
Mikte ic hire at wille haven,
Stedefast of love, loveli, trewe,
Of mi sorwe yhe may me saven
Ioye and blisse were were me newe.
Здесь have и save, true и new образуют рифму. Современный английский этого не допускает, но в XIII–XIV веках true и new звучали как /triu/ и /niu/. Рифма указывает на древнее произношение с йотированным дифтонгом.
Другой пример — рифма из религиозной поэзии:
For in this rose conteynyd was
Heuen and erthe in lytyl space.
Здесь was рифмуется со space. Объясняется это тем, что space имело долгий /a:/ — /spa:s/, а was произносилось с открытым гласным /was/.
«So, to, go»: следы долгого /ɔ:/
В народных песнях встречаются строки:
My lief is faren in londe
Allas, why is she so?
And I am so sore bonde
I may nat come her to.
She hath myn herte in holde
Wherever she ride or go
With trewe love a thousand folde.
«Моя возлюбленная уехала в дальние края.
Увы, почему так случилось?
А я так тяжко связан,
Что не могу прийти к ней.
Она держит мое сердце,
Куда бы ни поехала или пошла,
С преданной любовью в тысячу крат».
Очевидно, что so, to и go должны рифмоваться. Это возможно, если предположить их звучание с долгим /ɔ:/, а не с современным /oʊ/.
Иногда в текстах встречаются так называемые орфографические рифмы — совпадения в написании, но не в звучании. Пример — londe (земля) и bonde (связанный). Они писались одинаково, но произносились как /lɔnd/ и /bu:nd/. Это показывает, что поэт мог опираться на графическую традицию, а не только на фонетику.
Рифма — это не только художественный приём, но и ценный источник для исторической фонетики. Она позволяет увидеть, как звучали заимствования из французского, как менялись долгие гласные, как происходил Великий сдвиг гласных. Без анализа поэзии Чосера, Шекспира и анонимных среднеанглийских текстов наша реконструкция истории английского была бы куда беднее. Поэты, сами того не зная, оставили нам живые следы звучания, которые не стереть временем.