Мысль на автопилоте
Когда самолёт отрывается от взлётной полосы, я позволяю себе оторваться от полосы рационального контроля. Дорсолатеральная префронтальная кора уходит в stand by и включается СПРРМ – сеть пассивного режима работы мозга, default mode network (DMN). Так это называют учёные. Автопилот, в общем.
Про вечное сияние чистого разума мой тёзка английский поэт Александр Поуп написал лет триста назад, а сам феномен плотно начал изучать нейробиолог Маркус Рейчел в конце 90-х. В ходе экспериментов на томографе он с коллегами из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявил, что даже если человек ничего не делает, его разум продолжает сиять активностью. И ванна Архимеда, и сон Менделеева, и прогулки Ницше по горным тропам – это погружение в состояние автопилота, давшее нам фундаментальные знания.
Парадокс: мозг включается в тот момент, когда мы отключаемся, наслаждаясь видом кучевых облаков в иллюминаторе и в их образах пытаемся найти смыслы – вот зайчик с запахом клубники на даче, а вот аллигатор, готовый этого зайчика проглотить вместе с детством. Стоит отключиться от реальности, начать воображать – и включается eternal sunshine of the spotless mind.
Сон наяву, когда логика не держит нас в узде. Здесь пропадает дорсолатеральная цензура и рождается вдохновение – побочный эффект того, что мозг на время оставили в покое. Это не муза, спускающаяся сверху – это нормальная работа серого вещества без кнута контроля. Мы настолько редко позволяем себе просто помечтать или бесцельно уставиться в иллюминатор, что любое озарение выглядит как чудо.
Внизу, на земле, нам предлагаются сотни практик – медитация, йога, чайные и какао-церемонии, дыхание маткой, при условии, что она у вас есть, – всё, чтобы остановить нескончаемый поток мыслей. Кто-то из амазонских шаманов, наоборот, возводит этот поток в абсолют, чтобы собрать его в единый пучок и пульнуть в космос. А кто-то умеет просто зависнуть у костра, уставиться в языки пламени и смотреть, как они сжигают все мысли до тлеющих углей.
Мне за диджейским пультом нравится наблюдать за танцполом, отключенным от окружающей реальности. Мне нравится проводить эти сеансы групповой медитации под плотный бит техно по утрам. Однажды, где-то в Гоа на рассвете, я уже заканчивал играть свой сет на пляже, когда со стороны мангровых зарослей появились пять обнажённых по пояс тел, бородатых и покрытых тату. Они, выстроившись в цепочку и синхронно имитируя гребцов, приближались к танцполу, словно викинги на маленьком дракаре к берегам Святого Острова Линдисфарн. Они плыли к диджейской, рассекая волны танцующих передо мной людей, и их появление было настолько эффектным и обескураживающим, что я забыл свести следующий трек.
В полной тишине парни выстроились у сцены, подняли руки к небу, и в это мгновение за моей спиной выскочил первый утренний луч Солнца. «SOL-FA-RID! SOL-FA-RID! SOL-FA-RID!» – начали громко скандировать они, и сотни людей на танцполе подхватили этот почти боевой клич. Следующий трек я не просто включил – свёл его с орущей в нирване от восходящего солнца толпой, музыкой подарил этим ребятам озарение. А они расплатились вдохновением – кажется, я играл ещё часа три и не мог остановиться.
После сета мы пошли вместе пить пиво. Они оказались на самом деле потомками викингов, исландцами, и рассказали легенду о Солфариде – страннике на корабле мечты, плывущем к солнцу, – миф о вечном стремлении к свету, поиску нового мира. Никакой логики, только мечты и грёзы о будущем. Исключительно работа СПРРМ – автопилота, ведущего внутреннего солфарида через туман сознания к собственному сиянию чистого разума.
Тогда, на пляже, почти двадцать лет назад, я не задумывался о феномене коллективного бессознательного, но, пожалуй, впервые ощутил эту силу. Люди, вдохнувшие крик исландцев, стали одним целым организмом, сеть пассивного режима развернулась не внутри одного мозга, а между сотнями людей сразу. Юнг писал, что в глубинах психики каждого из нас скрываются архетипы, общие для всего человечества образы. В такие моменты они всплывают на поверхность, оживают в песнях, танцах, криках, молитвах – будь то посиделки у костра, концерт на стадионе или таваф вокруг Каабы.
Но там, где появляются общие энергии, всегда появляется соблазн направить их в какое-то русло. Коллективное бессознательное не только объединяет, оно гораздо сильнее подвержено управлению. Жрецы, политики и маркетологи знали об этом задолго до Маркуса Рейчела: восторженные крики толпы во время жертвоприношений у ацтеков, Арабская весна или длинные очереди перед магазинами Apple накануне начала продаж нового телефона – по своей глубинной сути одно и то же. Механизм простой – подключиться к нашему автопилоту и вести его в нужном направлении.
Однако автопилот иногда даёт сбои, и вместо полёта вперёд к вдохновению вдруг начинает нарезать круги вокруг одной и той же навязчивой мысли. Нейробиологи зафиксировали, что у людей с депрессией DMN работает в режиме гиперактивности, гоняя по замкнутому пространству самокритику и чувство вины, бесконечно пережёвывая внутреннюю боль. В коллективном бессознательном так же: если негативный образ захватывает общий поток, мы наблюдаем массовую истерию, фанатизм. Толпа способна на чудеса единения, но и на чудеса разрушения тоже.
Именно так создаются враги, возникают фантомные угрозы или мифы о великом будущем отдельно взятого государства. Пропаганда, и неважно с какой стороны она льётся в уши, есть самая грязная эксплуатация сети пассивного режима, только уже на уровне нации. Коллективный сон, где вместо вдохновения вырабатывается топливо для войны.
Что может этому противостоять? На мой взгляд – искусство. Да, оно всегда было мощным инструментом пропаганды, но в нем заложен антипод любой идеологии – свобода толкования. Это пространство способно создавать альтернативные нарративы, перепрошивая тонкими нитями общую истерию, как песни Джима Хендрикса на Вудстоке или граффити на Берлинской стене. И в конце концов, если мы научимся включать СПРРМ коллективно не ради паники и вражды, а ради проекта мира, то у каждого из нас появится собственный Солфар – небольшой корабль надежды, на котором можно плыть вместе не с лозунгами и яркими национальными флагами, а под общую, выстраданную тысячелетиями войн картину будущего.
Обсуждение закрыто.





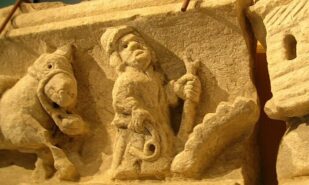










1 комментарий.
С нетерпением жду новых статей 🔥