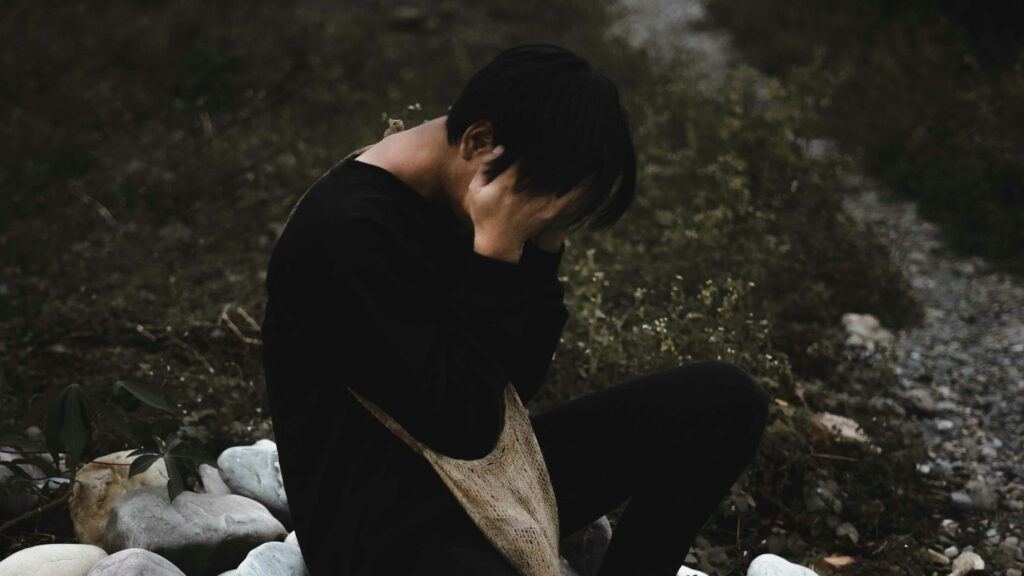Эмоциональное выгорание как утрата смысла: когда забота о других перестает наполнять
Усталость принято считать чем-то обыденным: механическим истощением, которое исправляется сном и короткой передышкой. Но, как у айсберга, под видимой вершиной прячется основная масса – тяжёлая и холодная глубина.
Это усталость иного порядка, та, что медленно подтачивает внутренний мир человека, его смыслы и убеждения о себе. Не просто нехватка энергии, а трещина в символическом фундаменте: там, где мы создаём историю о себе и отвечаем на вопрос, зачем живём? Эта усталость неуместна в мире, где человек должен быть собранным, продуктивным и эффективным.
«Воля к эффективности перерастает в насилие, когда человек вынужден постоянно превышать самого себя»
(Хан Бён-Чхоль).
Но именно усталость обнажает хрупкость и подлинность, напоминая: внутри любой роли остаётся живой и уязвимый человек. Её трудно свести к обыденной категории «переработал». Усталость принадлежит той области, которую Хан Бён-Чхоль называл «болезнью свободы»: состоянию, когда мы становимся заложниками собственных обязательств. Она возникает там, где выбор уже перестаёт быть подлинным и превращается в скрытую форму принуждения. Человек живет в иллюзии, что всё ещё действует добровольно, хотя на самом деле движим страхом утратить ценность в глазах других.
«Сегодня каждый сам себя подталкивает к максимуму, добровольно ставя под прессинг производительности»
(Хан Бён-Чхоль).
В современном обществе забота всё чаще лишается подлинности. Её больше нельзя отделить от невидимой сети моральных и культурных императивов: «я должна быть хорошей мамой», «обязана быть внимательной», «должна угадывать потребности близких», «нужно доказать свою компетентность».
Первоначально этот жест имеет видимость добровольности: субъект переживает подъём, вдохновение, наполнение смыслом. Забота даёт ощущение, что жизнь прикасается к чему-то важному. В символическом регистре такой момент совпадает с утверждением нарциссической фантазии о собственной незаменимости: «я есть тот, кто нужен другому».
Но символический порядок не может оставаться неизменным. Повторение ритуалов заботы утрачивает связь с внутренней мотивацией. Когда человек снова и снова воспроизводит знак «я отдаю», знак постепенно отделяется от означаемого. Забота перестаёт быть актом любви и становится знаком в бесконечной цепочке других знаков – формальной обязанностью без привязки к живому насыщающему опыту. Труд становится ритуалом, а забота – стандартом, которого ожидают и даже требуют.
«Человек эпохи достижения теряет способность останавливаться. В этом неумении остановиться коренится его выгорание»
(Хан Бён-Чхоль).
В этом и заключается ядро усталости: не в том, что мы изматываем себя бесконечными задачами или слишком сильно любим, а в символическом измерении, когда действия больше не имеют силы. Забота, утратившая внутреннее топливо, становится чем-то вроде повторяющегося ритуала: формой без содержания.
Внутри лишь беззвучное ощущение опустошения, словно человек ежедневно отдаёт нечто, что уже давно перестало принадлежать ему. Это не усталость тела и даже не психики, а усталость символического субъекта, который больше не верит, что за его знаками стоит реальность.
В контексте семьи это превращается в хронический сценарий. Мать, много лет посвятившая себя заботе о детях, партнёре, пожилых родителях, оказывается в ловушке собственного перфекционизма. На психологическом уровне состояние поддерживается рядом механизмов:
- «гиперответственность» – установка, что всё зависит только от неё;
- «сверхконтроль» – убеждение, что никто не сделает так хорошо, как она;
- «условная ценность» – привычка определять своё право на любовь и принятие только через пользу и жертвенность;
- «эмоциональное вытеснение» – неспособность признать, что ей плохо и тяжело.
«Неудача в обществе достижения воспринимается как личная вина и слабость».
На первом этапе такие механизмы выполняют адаптивную функцию: они позволяют справляться с реальными вызовами материнства и семейной жизни. Женщина действительно удерживает множество процессов, что даёт ей чувство опоры. Но постепенно ресурс перестаёт восполняться. Каждое усилие, вместо радости и гордости, оставляет ощущение утраченного смысла, всё больше отчуждает от собственной жизни.
Хайдеггер писал, что человек перестаёт быть собой тогда, когда живёт в режиме das man – безличного «надо». В этом состоянии мама превращается в функциональный набор. Её существование как субъекта заменяется бесконечным выполнением ролевых обязанностей.
«Субъект, уставший от самого себя, окончательно становится объектом»
(Хан Бён-Чхоль).
Экзистенциальная усталость отличается от физической тем, что её невозможно компенсировать простым отдыхом. Человек может поехать в отпуск, поспать, сходить в спа. Но он возвращается в ту же матрицу смысла, в которой ценность приравнивается к жертве.
Этот феномен ещё точнее описывается через механизм когнитивной фузии: я и есть моя роль. Если я перестану это делать, что от меня останется? И действительно, что? Виктор Франкл называл это «ноогенной депрессией» – состоянием, когда человек не видит, ради чего живёт, потому что потерял возможность отличать свои подлинные желания от навязанных обязательств.
«Субъект эпохи свободы превращается в объект выгорания. Он разучивается останавливаться, разучивается сомневаться. Он живёт в режиме тотальной активности, которая замещает все вопросы смысла»
(Хан Бён-Чхоль).
При этом существует одно невидимое требование, которое завершает цикл этой усталости: мать должна оставаться счастливой. Она не только обязана быть заботливой, полезной, компетентной, но и должна радоваться своим трудностям. Как Сизиф, катящий камень, матери нужно воображать себя счастливой, потому что признание усталости или утраты смысла станет ее личным поражением.
«Императив позитивности заставляет человека беспрерывно демонстрировать жизнеспособность и энтузиазм»
(Хан Бён-Чхоль).
Вам не оставили права на сожаление, горечь или печаль: улыбка становится ещё одной обязанностью, ещё одним знаком в цепочке ритуалов, оторвавшихся от живой реальности.