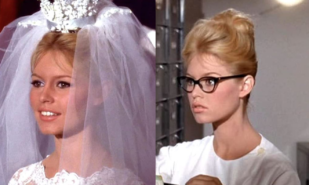Кафка и отчуждение: почему это как никогда актуально в XXI веке?
Когда Франц Кафка писал о человеке, проснувшемся насекомым, он ещё не знал слова «деперсонализация», не читал Фуко, понятия не имел о корпоративной этике и не покупал каждый год новый айфон. Да он и не описывал будущее, не был пророком или фантастом, чьи описания воплотились в реальности. Но некоторые вещи Кафке удалось разглядеть с пугающей точностью задолго до того, как они стали нашей повседневностью. Писатель уже знал: можно жить рядом с другими и не быть замеченным или заботиться, быть полезным, нужным, но каким-то образом всё равно оказаться лишним. Отчуждение начинается не с конфликта, а с тишины, с опыта неувиденности.
Тело как объект отчуждения
Главный герой «Превращения» Грегор Замза просыпается в теле, вызывающем отвращение у тех, кого он кормил и защищал. Это тело не есть новое существо, он стал тем, чем всегда был в восприятии других: объектом, функциональной единицей, существом без голоса. Замза приобрёл форму, которая исключает его из человеческого пространства.
«Он лежал на спине, превращённый в гигантское насекомое…» (Превращение)
Кафка показывает нам не монстра, не страшное чудовище, а отвратительного паразита. Это не просто физическое уродство, а онтологическое изгнание через тело, которое больше нельзя осмыслить как «моё». Тело, которое не вписывается в стандарты, биометрию, ролевые ожидания. И как только оно перестаёт быть полезным, то становится «не тем». Опыт отвращения оформляет потребность отвернуться, отодвинуться, уйти. Именно так семья реагирует на Грегора: не с сочувствием, а как будто само присутствие этого нового существа нарушает порядок.
Здесь неожиданно возникает глубокий резонанс с феминистским осмыслением телесности. С ХХ века тело женщины часто преподносится как конструкция, отчуждённая от субъекта, навязанная извне, «говорящая» о женщине до того, как она начинает говорить сама.
«Женщина – это форма, которую другие видят. Она не субъект, а зеркало чужого желания» (Иригарай)
Современные интерпретации продолжают подчёркивать: тело женщины часто живёт как чужое, как сцена, на которой разыгрываются ожидания общества – красота, контроль, сексуальность, молчание, повиновение. И в этом смысле превращение Грегора – универсальный жест: он перестаёт быть тем, кто говорит, и становится тем, на кого смотрят. Он не утрачивает человечность, но теряет право на признание в нем человека. Тело становится объектом взгляда, биологическим событием, которое выталкивает из человеческого пространства.
«Я был бы счастлив, если бы меня не было видно. Если бы я мог быть ничем – только наблюдением, только взглядом, который никто не замечает» (Кафка, дневник)
Этот опыт доступен не только женщинам, в эпоху тотальной визуализации и самопрезентации аналогичная ситуация знакома всем. Мы живём в культуре, где тело становится прежде всего объектом представления – чем-то, что нужно показать, отредактировать, согласовать с социальными ожиданиями. Оно существует на экране раньше, чем в опыте. В нарциссическом обществе видимость заменяет подлинность, а присутствие сводится к изображению. Стоит выйти за пределы ожидаемого образа – и ты исчезаешь с социального радара. А если тебя нет в интернете, то есть ли ты вообще?
Семья как система искажения
У Кафки семья – не пространство заботы, а первый контур социального давления. Грегор содержал семью, и пока он приносил пользу, его существование принимали. Но в момент, когда он оказался затратным, Грегора исключили из поля взаимодействия. Любопытно, что в тексте не указывается, каким именно животным стал Замза, он – Ungeziefer. Это слово не означает конкретного насекомого, а что-то непригодное и вредящее. Кафка намеренно избегает конкретизации. В письмах автор подчёркивает, что не хотел изображать Грегора как чётко опознаваемое насекомое. Персонаж должен стать чем-то отвратительным, чуждым, но неопределённым – не столько животным, сколько телом, утратившим право на человечность.
Владимир Набоков, например, отмечает, что семья начинает воспринимать Грегора как обузу, «а его существование – как паразитическое, но именно эта семья годами существовала за счёт него, паразитируя на его усилиях и самоотречении».
«Они думали только о том, как избавиться от него. Его существование стало для них непереносимым» (Превращение)
Эта структура, в которой забота измеряется функцией, похоже, была для Кафки автобиографичной. В «Письме к отцу» он пишет: «Я был для тебя ничтожной тенью, которой стыдились и которую терпели из чувства долга». Грегор Замза тоже жил среди людей, но, как выяснилось, не стал с ними по-настоящему близок. Он был нужен, но не замечен. Находился рядом, но не оказался встречен.
«Он лежал в тени, где его почти никто не замечал. Вроде бы дома — но не среди своих» (Превращение)
И это то, что делает Кафку пугающе современным. Мы и сейчас зачастую существуем друг для друга не как личности, а как набор функций, как социальная роль. Пока человек выполняет функционал – он вписан в систему, приемлем, признан. Но стоит утратить работоспособность, стабильность, уверенность, эмоциональную доступность, и хрупкая связь обрывается. Забота оборачивается раздражением, прежнее участие – тишиной.
Во многих отношениях: в семьях, на работе, даже в дружбе ценность человека измеряется не его существованием, а полезностью. В обществе постмодерна идентичности глубоко растворены. Человек превратился в проект, который нужно постоянно оптимизировать. Личный бренд заменил личность.
Вина без преступления
Герои Кафки чувствуют вину до того, как они действуют. Они виновны просто потому, что существуют.
«Ведь виновен я… но в чём, в чём?» (Процесс)
Это универсальное переживание человека в мире, где неясны правила, и вина ощущается как экзистенциальное напряжение. Сегодня это выражается в виде перманентного чувства несоответствия: ты должен быть другим, лучшим, собранным, успешным, продуктивным. Вместе с тем ты не знаешь, кто этот «другой», с которым тебя сравнивают, и на кого нужно равняться.
Вновь остро на себе ощущают подобную ситуацию женщины – в культуре, которая транслирует противоречивые и невыполнимые требования: будь красивой, но не навязчивой; стань матерью, но не растворяйся в ребёнке; строй карьеру, но не забывай о доме; будь сексуальной, но не вульгарной; ухоженной, не потратив на это слишком много времени. Эти стандарты не просто не совпадают – они противоречат друг другу.
Ярким отражением такого положения дел стала вирусная видеопоэма «Be a lady, they said» с Синтией Никсон – ролик, который разошёлся по соцсетям и получил миллионы просмотров. В нём без эмоций зачитывается список требований к женщине от лица общества. И становится ясно: как бы ты ни старалась, с тобой всегда что-то не так. Это и есть кафкианская вина: ты – женщина, и в этом виновна изначально.
«Моя вина в том, что я не могу быть другим» (Кафка, дневник)
Общество, где никто не говорит, но все оценивают
Кафкианский мир – это система молчаливых структур. Героя судят, не объясняя; изолируют, не наказывая; выталкивают, даже не касаясь. Сегодня мы сталкиваемся с цифровым аналогом кафкианской реальности: алгоритмы распределяют внимание, одобрение, видимость, но никто не отчитывается, по каким правилам они работают.
Просмотры, лайки, подписки – новая форма приговора. Мы можем неделями вкладываться в контент, в образ, в усилие и получить в ответ тишину. Или, наоборот, стать «заметными» на один день, но так никогда и не понять, что именно сработало. Не слышно «да» и не слышно «нет» – только цифры, равнодушные, немые. И мы гонимся за ними.
Это создаёт новую форму тревоги: постоянное чувство наблюдения за тобой, оценки. При этом ты ничего не знаешь о критериях и параметрах. Они смотрят, но не говорят. И всё зависит от их реакции, и невозможно её предсказать.
«Они наблюдали за мной, но никто не обратился ко мне напрямую» (Процесс)
И всё-таки, почему Кафка остаётся с нами? Хочется пошутить: все дело в том, что он писал абсурд, а мы в нем живем. Хотя, кажется, в этом мало шутки. Кафка прожил то, что сегодня становится «общим местом»: жизнь без адресата, вина без причины, тело без голоса. Он показал, как человек может исчезнуть, оставаясь в комнате; быть окружённым, но не включённым; быть нужным и одновременно лишним. Его тексты не стареют, потому что они не о конкретном времени, а об архитектуре бытия, о структуре, в которой мы живем.
«Есть надежда, бесконечная надежда, но не для нас» (Процесс)